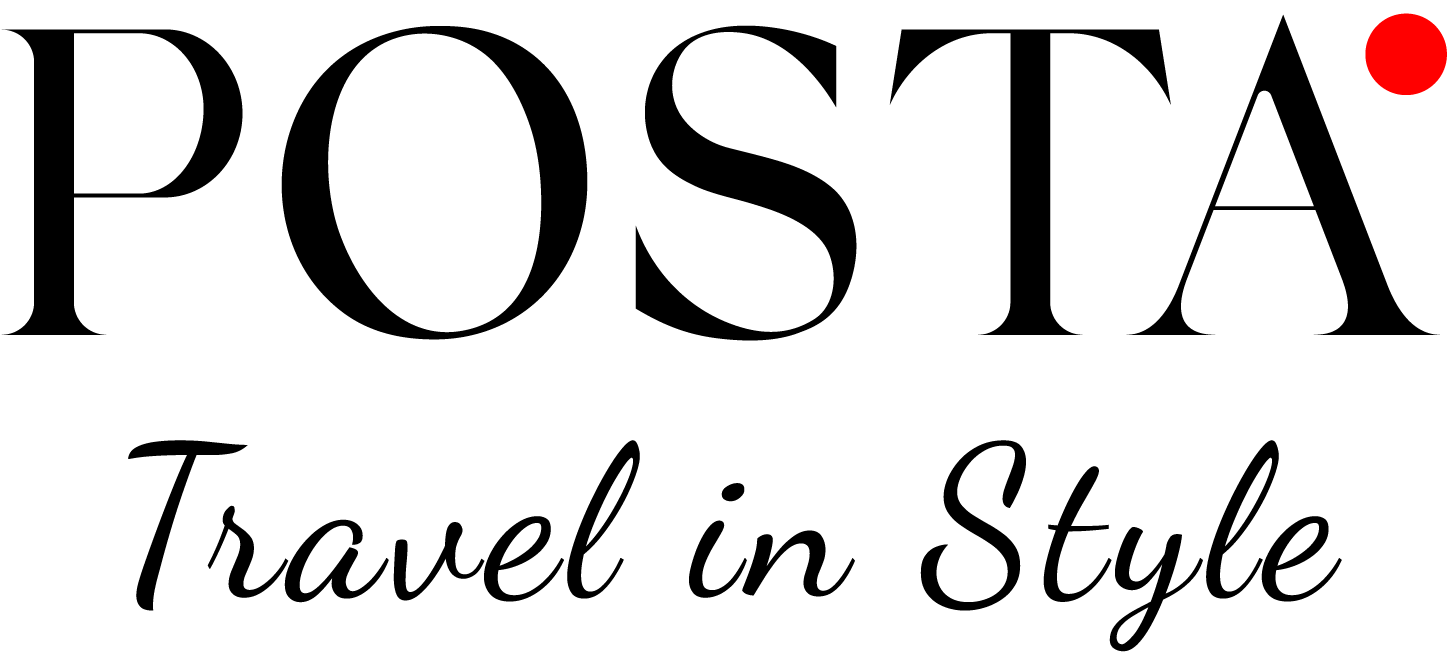Коллекционер Ирина Столярова стала героиней одной из последних серий фотографа Саши Гусова, одного из самых известных и востребованных на Западе портретистов, которому позировали лучшие актеры, музыканты и оперные певцы, в том числе Лучано Паваротти, Юэн Макгрегор и Джуд Лоу.
Фото: Саша Гусов
Фотографии Ирины Столяровой
войдут в новый альбом Саши Гусова, который будет опубликован в следующем году. На протяжении последних двадцати с лишним лет она собирает коллекцию искусства «Лететь вослед лучу» (Flyingin in the Wake of Light) — произведения русских художников, живших как на родине, так и на Западе. Мы поговорили с Ириной о связи живописи, балета и поэзии, а также о том, что значит быть коллекционером.
Валерия Горбова: Когда и как вы начали собирать вашу коллекцию?
Ирина Столярова: Я начала коллекционировать около двадцати лет назад. Мне кажется, я как коллекционер и ценитель искусства росла вместе со своей коллекцией. Вначале была увлечена «малыми голландцами», русская живопись казалась мне вторичной. Но потом постепенно я стала открывать для себя имена Судейкина, Машкова, Кустодиева, Бенуа. Тоже вполне типологическая ступень, правда, здесь уже была большая свобода маневра для каких-то личных мотивов. И так продолжалось до тех пор, пока в собрании одного московского коллекционера я не увидела работу Малевича. Эта была единственная абстрактная работа в окружении картин старых мастеров. Но она затмевала собой все остальные, хотя в коллекции были очень серьезные имена. И я вдруг поняла, что прервался мой личный контакт с фигуративной живописью. Те картины, которые я собирала, перестали совпадать с моими эмоциями и жизненными ощущениями. Окончательно я решила, что меня интересует, когда посетила выставку Ланского. Именно Ланской и еще Шаршун положили начало моей новой коллекции. Я поняла, что интеллектуально и эмоционально настроена на абстрактную живопись в различных ее изводах, что именно здесь я могу выразить себя как собиратель.
![]()
— А кто ваши любимые художники в коллекции?
— Мой любимый художник — Пьер Дмитриенко. Дмитриенко не принадлежит к числу конвенционально признанных художников, многие считают его просто последователем Ланского. Это мне представляется несправедливым. Дмитриенко — выдающийся мастер со своей индивидуальной поэтикой. В его живописи абстракция «прорастает» натурными ассоциациями. Как в работе «Гефсиманский сад». Когда я всматриваюсь в его живопись, мне вспоминается одноименное стихотворение Пастернака:
Лужайка обрывалась с половины,
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
Такие вот переходы горнего в наблюдаемое. Я нахожу в нем все, что ищу в абстракции. Я много читала о нем и изучала его творчество. Как и Малевич, он вышел из русской иконы. Он говорил, что его картины — «иконы» или «как иконы». Причем речь совершенно не идет о подражании православной иконе. Икона наложила отпечаток на его творчество в абстрактном, символическом понимании. Мне очень близко его отношение к живописи: «Я нахожусь в поисках письма, письма, передающего человека. Знаков, которые могли бы быть понятными за пределами того языка, носителем которого является каждый из нас. Письма, которое с помощью немногих знаков выразило бы квинтэссенцию бытия. Я должен найти определенную манеру письма, ощутимую, лишенную повествовательности, свободную от пространства и времени». У меня три его работы. Одна из любимых — «Дороги». Когда я смотрю на нее, мне вспоминается «Болеро» Равеля в постановке Бежара. В этой картине та же ритмика и композиция, которая заставляет вспоминать и хореографию, и сценографию бежаровского спектакля”.
— Вы хорошо знаете балет, немногие берутся сравнивать живопись и с танцем.
— Вообще-то в 2012 году в Бостонском музее современного искусства была даже выставка «Dance/Draw», специально посвященная танцевальной метафорике и даже технике в современной арт-практике. Просто у нас ограниченный словарь описания искусства — прилипли к десятку терминов, и все. А я вот не скрываю, что многое воспринимаю в хореографических ассоциациях. Я действительно хорошо знаю балет. Я из потомственной балетной семьи. Моя мама была балериной Большого театра. Я тоже танцевала там. Это — навсегда. Но мне с детства ближе эстетика современного балета, который принято называть авангардным.
В свое время, к сожалению, я не смогла поехать по приглашению Бежара в его школу-студию «Мудра» в Бельгии, хотя он приглашал меня. Времена такие были … Но мне все же посчастливилось танцевать в его «Исадоре», которую он поставил для Майи Плисецкой. Он, кстати, первоначально задумывал его для Хорхе Донна, но был очарован темпераментом и экспрессивностью Майи. У меня всегда, когда я смотрю на абстрактную картину, возникает ассоциация с танцем, я думаю, что между ними очень много общего. Особенно, когда вспоминаешь работы таких великих хореографов, как Пина Бауш, Морис Бежар, Марта Грэм.
Танец, на мой взгляд, — главная метафора мира. Это и сближает его со столь же метафизичными абстрактной живописью и поэзией.
![]()
— А почему люди собирают абстракцию? Это достаточно сложная, интеллектуальная форма коллекционирования.
— Знаете, я здесь лучше сошлюсь на Василия Розанова, который, на мой взгляд, абсолютно точно выразил это «почему» в своей книге «Последние листья». «Метафизика живет не потому, что людям „хочется“, а потому, что душа метафизична. Метафизика — жажда». Для меня моя коллекция — это мои диалоги с искусством, где в единое целое связываются живопись, философия, танец и поэзия. Абстрактное искусство для меня — и язык, и визуальная драматургия, и способ мышления, его содержательные возможности бездонны. И это мой выбор: мне не нужен обязательный набор имен, маркировать которыми коллекцию — признак «хорошего тона». Здесь, как мне представляется, больше возможностей индивидуализировать собирательство, артикулировать важный для меня ресурс диалогичности. Ведь я действительно воспринимаю принадлежащие мне вещи в режиме беседы, обмена эмоциями.
— Кстати, вы не обращали внимание на один феномен: танцоры часто коллекционируют искусство — Барышников, Нуреев…
— Да, наверно, в этом есть какая-то связь. Что касается Барышникова, то мне очень интересно то, что он стал делать, когда переехал на Запад. Я понимаю, как сложно танцору, воспитанному на классической традиции балета, начать делать что-то современное. Его сотрудничество со знаменитой Мартой Грэм изменило его, сделало по-настоящему великим танцором. Ведь она ставила танцевальные номера специально для него. Она научила его средствами «другого» танцевального словаря выражать язык души. Я уважаю его еще и потому, что он постоянно идет дальше и развивает этот язык.
В 1962 году в Америке возникло движение Judson Church — попытка отвергнуть негибкий словарь современного балета, отказаться от экспрессии жестов и телодвижений и сосредоточить свое внимание на самом движении, на первый взгляд самом обычном, повседневном, — ну, как, скажем, движущиеся пешеходы, спешащие по своим делам. Так спектакль Pastforward 2001 года — попытка Барышникова возродить Judson Church. Мне очень интересно наблюдать за ним. А теперь мне бы хотелось посмотреть и на его коллекцию, которая будет выставлена в Москве. Знаю, что у нас есть совпадения, Целков, например.
![]()
— Я хотела бы все-таки прояснить для себя один вопрос, среди работ в вашей коллекции все-таки встречаются произведения, которые можно назвать фигуративными: Целков и Рабин. Как их присутствие увязывается с вашей концепцией предпочтения абстрактного искусства?
— Это хороший вопрос. Вообще нигде, особенно в коллекционировании, не хочется такой, знаете, упертости: от сих до сих. Вообще, живописная репрезентация современного художника после Малевича не может не учитывать абстракцию. Так что «фигуративные работы» в моем собрании я воспринимаю именно абстрактными, я вижу их закодированность, знаковость. Когда в картине перестанут видеть девушек или яблоки, говорил Ланской, и увидят живопись, разница между фигуративным и нефигуративным исчезнет. А есть работы — Янкилевский, например, — в которых тематизируется и драматизируется само формообразование: изображение «проявляется» на поверхности беспредметного универсума, оно же готово «уйти» в него. В отношении таких вещей категории «абстрактное» и «фигуративное» перестают работать.
![]()
— Вы, в отличие от многих собирателей, не инвестируете в искусство. И, насколько я понимаю, для вас коллекционирование не является делом престижа? Работы каких авторов есть в вашей коллекции?
— Ну, об этом я действительно мало думаю, скорее, это совпадение, что все работы, которые я покупаю, где-то опубликованы или выставлялись на каких-то выставках. Я смотрю прежде всего на работу, а не на то, кто ее автор. Хотя, безусловно, ценю и имена создателей. В моей коллекции есть Ланской, Шаршун, Дмитриенко, Янкилевский, Плавинский, Пивоваров, Кантор, Бруй и другие.
— Я знаю, что вы большой знаток поэзии. Вы сказали, что видите взаимосвязь живописи и поэзии, в чем она?
— Знаете, когда я покупаю то или иное произведение искусства, я определяю для себя близость его моему духовному складу, тоже самое происходит, когда читаю стихи. Я всегда нахожу близкие себе произведения. Иногда, когда смотрю на картину, то начинаю понимать, какому стихотворному образу она соответствует. Иногда мои ощущения действительно совпадают с ощущениями художника. Так, например, обстоит дело с Янкилевским. Мне подарили экземпляр книги, сделанной им вручную, с опубликованным там стихотворением «Безумцы» Анны Андреевны Ахматовой. Почти полвека тому назад она пригласила к себе Анатолия Наймана, для того, чтобы предложить ему переводить лирику Джакомо Леопарди. С того времени у Наймана сохранилось несколько черновиков Ахматовой. В черновиках было это стихотворение, которое Найман впервые опубликовал именно в книге Янкилевского «Анна Ахматова».
Или, например, концептуальная живопись Пивоварова абсолютно созвучна произведениям его ближайшего друга Игоря Холина. Картина Оскара Рабина «London-3» из моей коллекции монтируется со стихотворением Вильяма Блейка «Лондон». Ну так далее. Эти сопоставления можно проводить до бесконечности.
— Знаю, вы ведете диалоги с поэтами, а с художниками вы общаетесь?
— Да, у меня есть друзья художники, прежде всего это Максим Кантор и Вильям Бруй. Я постоянно общаюсь с ними, мы перезваниваемся, разговариваем, и в этом, казалось бы, легком дружеском общении мы обсуждаем очень важные для нас вопросы, касающиеся философии искусства. Кантор и Бруй совершенно разные художники, но они оба имеют общие корни, они произошли из русской культуры начала XX века.
— Как ваша коллекция будет развиваться, какие еще художники вам интересны?
— Недавно я открыла для себя Файбисовича, мне он интересен. Также думаю о Вулохе и Злотникове. Хотя я заранее не знаю, что именно буду приобретать, у меня нет четкого плана, я всегда иду от вещи и от моих ощущений, с ней связанных.
![]()